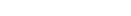Список, как видим, внушительный, и казалось бы, шансов на возвращение немного. Тем не менее слова Булгакова, послужившие эпиграфом к настоящей статье, свидетельствуют о его непоколебимой уверенности в неизбежности возвращения. То, что он знал, мы ощущали уже давно, а теперь тоже твердо знаем: когда прерывается "связь времен", те, кто остается в прошлом без будущего, переживают личную трагедию. Те же, кто, оставшись без прошлого, устремляется в будущее, блуждают в потемках, не в силах найти пути, и в конце концов вынуждены вернуться назад, чтобы, обогатившись прошлым, начать все сначала. Без деятелей духовного ренессанса падала XX в. (а Булгаков среди них - одна из главных фигур) совершенно невозможно представить себе русскую философию, а значит, и русскую культуру вообще как целостное явление. Отсутствие этой целостности сказывается, между прочим, и в том, что становится невозможным описать историю этой культуры,- вот почему у нас до сих пор пет сколько-нибудь удовлетворительной Истории русской философии и русской культуры (и та и другая в нерешительности останавливаются перед 1917 г., не смея переступить этот огненный рубеж, как будто после 1917 г. ничего не было,-и самое удивительное, что в известном смысле так оно и есть).
Марксизм, механически устранив всех своих идейных противников, регрессировал и сам, и последствия такой эволюции для самого марксизма оказались катастрофическими. Превратившись в идеологическую утопию, марксизм способствовал становлению в нашей стране политического режима, который с полным правом можно назвать идеократией, трагический парадокс которой состоит в том, что идеология, будучи "всеобщей", в то же время оказывается "ничьей". Есть правящая идеология, по нет искренних носителей этой идеологии; есть собственность, но нет настоящих собственников; есть зло, но нет субъекта зла. Оказалось, что возможно быть "марксистом", даже не заглянув в сочинения Маркса. Все это, вместе взятое, в чрезвычайной степени способствовало дискредитации марксизма.
Но есть еще одно важное обстоятельство, на котором здесь стоит остановиться хотя бы уже потому, что сам С. Н. Булгаков хорошо его понимал. Марксизм, будучи но форме интернационально-классовым учением, не может и не должен выполнять роль, которая является неотъемлемым атрибутом философии как формы общественного сознания,- он не может быть теоретическим выражением национального самосознания. Ниже мы специально остановимся на таком, надо отметить, непростом вопросе, как отношение Булгакова к марксизму и социализму. А пока скажем лишь о том, что насильственная депортация в 1922 г. большинства крупнейших представителей русской национальной философии (и физическое истребление оставшихся) привела к страшному снижению yровня и самого качества национального самосознания. "Приглушенное" таким образом самосознание целого народа не могло сопротивляться становлению сталинизма.
Теперь, признав примат общечеловеческих ценностей (без признания этого примата общество оказывается под реальной угрозой деградации в дообщественное состояние, состояние bellum omnia contra omnes), мы но сути дела возвращаемся и к проблематике Булгакова. Пережив наш страшный исторический опыт, мы теперь должны открыто признать, что во многом он был, конечно же, нрав и многое. - увы! - предвидел. Разумеется, не во всем с ним можно а нужно соглашаться. Но полемика с ним должна быть взаимообогащающа. Иначе она, по крайней мере, бесполезна.
Все вышесказанное можно обобщить краткой формулой: в возвращении С. Н. Булгакова на родину есть глубокая закономерность. Вместе с тем оно свидетельствует о начавшемся выздоровлении нашего общества, п то, как этот процесс выздоровления будет развиваться, во многом зависит от того, как будет встречен Булгаков (и не только он, разумеется) на родине.
1. БИОГРАФИЯ С. Н.БУЛГАКОВА
Сергей Николаевич Булгаков родился 16(28) июля 1871г. в г. Ливны Орловской губернии. "Я родился в семье священника,- писал впоследствии С. Н. Булгаков,- во мне течет левитская кровь шести поколений" (С. 34)2. Семья была многодетной, по до зрелых лет дожили только двое - Сергей Николаевич и его брат. Два других брата умерли в молодом возрасте от алкоголизма (от которого страдал и отец), "и только милостью Божией,-замечает Булгаков,- и сам я спасся от этой гибели". Жизнь в провинциальном российском городе прошлого века и религиозное воспитание оказали огромное влияние на формирование личности и мировоззрения С. Н. Булгакова. Он до конца своих дней с трогательной и благодарной любовью вспоминал свою "малую родину": "Наши Ливны были для меня Китижем" (С. 11). Большое значение для понимания булгаковской мысли имеет и религиозное воспитание, полученное им в семье. В этом смысле духовная биография С. Н. Булгакова обнаруживает некоторое типологическое сходство с биографиями В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева (сам он любил сравнить себя с другими "семинаристами" - Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым). "Примерно до 12-13 лет,-вспоминает С. Н. Булгаков,- я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию, учился в духовной школе, сначала в духовном училище (четырехклассном) в родном городе Ливнах, а затем в Орловской духовной семинарии (3 года). Уже... в первом-втором классе семинарии наступил религиозный кризис, который,- правда, хотя и с болью, но без трагедии - закончился утратой религиозной веры на долгие, долгие годы, и с 14 лет примерно до 30 блудный сын удалился в страну далеку..." (С. 34). Этот период "религиозной пустоты" Булгаков позднее расценивал как самое тяжелое время своей жизни.
Сделавшись "жертвой мрачного революционного нигилизма" (С. 35), Булгаков летом 1887 г. оставил Орловскую семинарию и после двухлетнего пребывания в Елецкой гимназии, в 1890 г. поступил на юридический факультет Московского университета. Студент Булгаков в духе времени изучает политэкономию, в эти же годы происходит его знакомство с марксизмом. В 1894 г. после защиты диплома он был оставлен (по рекомендации проф. А. И. Чупрова) на факультете для подготовки к профессорскому званию. В 1898 г. ему была предоставлена двухлетняя научная командировка в Германию. Еще до отъезда, в 1896 г., Булгаков опубликовал свою первую книгу "О рынках при капиталистическом производстве", написанную в основном с марксистских позиций.
В Германии Булгаков (вместе с женой Е. И. Токмаковой) пробыл до 1900 г. и познакомился здесь-по рекомендации Г. В. Плеханова - с крупнейшими представителями германской социал-демократии: К. Каутским, А. Бебелем, В. Адлером и др. В Германии, "наперекор ожиданиям, начались быстрые разочарования и мое "мировоззрение" стало трещать по всем швам. В результате, когда я вернулся на родину, чтобы занять, наконец, желанную профессуру "политической экономии", я был в состоянии полной резиньяции, в которой сначала робко и неуверенно, а затем все победнее стал звучать голос религиозной веры. Ее я и начал исповедовать с тех пор в своих сочинениях примерно начиная с 1901-1902 года, к удивлению и негодованию своих вчерашних единомышленников". Изумление, например. К. Каутского, когда он узнал о религиозности Булгакова, было так велико, что он, по рассказам, воскликнул: "Und Boulgakoff ist fromin geworden!"3
Свой резкий поворот "от марксизма к идеализму" сам Булгаков объясняет двумя причинами: любовью к Иисусу Христу, привитой ему с детства, и духовным влиянием Достоевского и Владимира Соловьева. К числу этих причин следует отнести и его "чудесную встречу" с Сикстинской Мадонной, которую он пережил в Дрездене. Вот как он сам об этом рассказывает: "Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз моих текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... я (тогда марксист) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро... бежал туда, пред лицо Мадонны, ,,молиться" и плакать, и немного найдется о жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез... Я возвратился на родину,- заключает свой рассказ Булгаков,- потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы".
Следует, пожалуй, назвать еще одно существенное обстоятельство, сыгравшее свою роль в духовной биографии С. Н. Булгакова,- его общение с Л. Н. Толстым. Вот, что пишет А. Б. Гольденвейзер в своем дневнике (запись от 20 марта 1897 г., Москва): "Был у Толстых, там был С. Н. Булгаков - марксист. Л. Н. был в ударе и очень горячо, страстно спорил с Булгаковым, яро отстаивавшим свои марксистские положения. Диалектика Льва Николаевича одержала верх, и Булгаков аргументировал к концу все слабее и слабее"4. "Я глубоко убежден,- пишет в примечании к этой записи А. Б. Гольденвейзер,- что эта беседа была одним из сильных толчков, заставивших Булгакова вскоре отказаться от марксизма и пойти по совершенно иному, хотя и весьма далекому от Льва Николаевича, пути"5.
Влияние Л. Н. Толстого на Булгакова носило скорее "негативистский" характер: оно способствовало разрушению его старых воззрений, но не стимулировало формирование новых. "Схема" отношения Булгакова к Л. Толстому хорошо просматривается в следующем эпизоде. Вспоминая свою последнюю встречу с Толстым в Гаспре в 1902 г., С. Н. Булгаков писал: "Я имел неосторожность выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы выразить приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. "Да, привели меня туда, посадили на Forterbank (скамью для пыток), я тер ее, тер ж..., ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила малого, только всего, что же особенного?" И он искал еще новых кощунственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа" (С. 109).
Булгакову понадобилась почти целая жизнь, чтобы признать относительную правоту Толстого в этом споре. Когда в 20-х годах состоялась его "вторая встреча" с Сикстинской мадонной, он "увидал и почувствовал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность" (С. 109).
Этот эпизод рисует не только "схему" влияния Л. Толстого на Булгакова, но и весьма показателен для внутреннего механизма его духовной эволюции вообще. Схема эта такова: отрицание - осмысление - частичное признание. И таковы же этапы его отношения, например, к религии и социализму, К. Марксу и Р. Штаммлеру, самодержавию и революции.
В 1901 г. Булгаков получил "профессуру" в Киеве, где он читает курс политэкономии. В августе 1903 г. он участвует в нелегальном съезде, на котором было положено начало "Союзу освобождения", в том же году он издает свою знаменитую книгу "От марксизма к идеализму"; в 1904 г.-вместе с Н. А. Бердяевым редактирует журнал "Новый путь". Наконец, в начале 1905 г. происходит "возвращение блудного сына" к Богу: Булгаков приходит (впервые за многие годы) в церковь на исповедь.
В марте по инициативе Булгакова было основано в Москве Религиозно-философское общество памяти В. С. Соловьева. Именно в эти годы к нему приходит слава и популярность .как к одному из ведущих публицистов страны. "С творчеством о. Сергия,- вспоминает В. Н. Ильин,- я познакомился первый раз в бытность мою еще молодым пятиклассником Киевской I гимназии, ибо тогда (в 1905-1906 гг.) о. Сергий был молодым приват-доцентом Киевского Политехнического института. Тогда же о, Сергий прогремел на всю Россию серией своих превосходных лекций о Чехове и рядом статей, которые впоследствии вошли в состав великолепного сборника ,,Тихие думы". Залы, и которых читал в Киеве о. Сергий, были переполнены, и стиль этих лекций, равно как и их успех, показывает, что действительно свершался некий крутой поворот от жалких и бедных идей 60-х и 70-х годов, даже полный разрыв с ними ради роскошной и многообещающей зари новых дней"6.
Начавшаяся в 1905 г. революция застала Булгакова в Киеве, а вообще эти годы - 1905-1907 - он проводит то в Москве, то в Киеве. В 1906 г. он участвовал в создании Союза Христианской политики и в 1907 г. был избран депутатом в Государственную (II) Думу от Орловской губернии как беспартийный "христианский социалист", но значительной деятельности как депутат не вел. При известии о Манифесте 17 октября Булгаков в толпе студентов, нацепив красный бант, вышел на демонстрацию, но в какой-то момент "почувствовал совершенно явственно веяние антихристова духа" (С. 76) и, придя домой, выбросил красный бант в ватерклозет.
С этого момента вчерашний "непримиримый враг самодержавия", по собственному признанию мечтавший в студенчестве о цареубийстве, становится монархистом. "Становилось очевидно, что революция губит и погубит Россию. Но не менее ясно было для меня тогда, что ее не менее верно губит и самоубийца на престоле, первый деятель революции Николай II. И из этого рокового кольца революции, в котором боговенчанный монарх в непостижимом ослеплении и человеческом слабоволии подавал руку революции, казалось, не было выхода" (С. 77).
Здесь необходимо отметить, что его так называемая "контрреволюционность" не носила политического характера. Сказано это, конечно, не ради "оправдания" Булгакова, в котором он и не нуждается, а единственно ради восстановления исторической справедливости. Внимательное и непредвзятое знакомство с его статьей "Героизм и подвижничество", написанной для сборника "Вехи" (М., 1909), показывает, что от революции Булгаков отвернулся исключительно по нравственным соображениям. В те годы - будучи уже религиозным (хотя и не церковным, а светским) мыслителем, Булгаков отнюдь не был монархистом, да и позднейший его монархизм был "платонического" свойства,- но об этом ниже. В революции 1905 г. Булгаков увидел симптомы очень многих опасных болезней, которые через несколько десятилетий, вполне развившись, поставят нашу страну на грань катастрофы. Это и надежда на "социальное чудо", и "разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев", что "освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей"7, и "духовная педократия" - "величайшее зло нашего общества"8 (и, добавим от себя, оборотная сторона инфантилизма), и многое-многое другое, к осознанию чего мы теперь, спустя - увы! - восемьдесят лет, понемногу приходим. 1909 г. во многом был переломным для Булгакова. Сборник "Вехи" неведомо для него самого уже вынес его "за скобки" будущей революционной России. Все до сих пор разрозненные тенденции его духовной эволюции отныне обретают в теологии вполне отчетливую конечную цель. "Из социолога я становился богословом",- отмечает он в "Автобиографических заметках". И в другом месте: "Мне нужна была не ,,философская идея Божества", а живая вера в Бога, во Христа, в церковь. Если правда, что есть бог, значит, правда все то, что было мне дано в детстве, но что я оставил". Вопрос, так резко сформулированный, не оставляет возможности для "идеологического маневра. В 1909 г. Булгаков переживает личное горе - в августе умер его четырехлетний сын Ивашечка, и это печальное событие он пережил "не только как личное горе, но и как религиозное откровение" (С. 67).
"С тех пор, как нас постигло наше горе,- писал в письме к Г. А. Рачинскому 27 сентября 1909 г.,- я оказался в каком-то благодатном облаке любви, незаслуженной и иногда неожиданной, это - ток, идущий оттуда. Как изобразить Вам пережитое? Скажу одно: я еще никогда не переживал такой муки в своей в общем благополучной, хотя и не свободной от утрат жизни. Мальчик этот наш (Ивашек, 3 г. 7 мес.) был особенный, необыкновенный, с небесным светом в очах и улыбке. Всегда вспоминаю, что родился он в Христову ночь, когда к заутрене звонили колокола. Вестник неба и ушел на небо" (ЦГАЛИ. Ф. 427. On. 1. Ед. хр. 2689. Л. 2). Сознанием Булгакова все заметнее овладевает проблематика смерти, "эсхатология смерти" (название одной из последних работ).
Общавшаяся с Булгаковым в это время М. С. Шагинян (которой он, кстати, посоветовал читать "Капитал", так как в нем "многое способно увлечь") вспоминает его как "удивительно милого и мягкого человека". "К Булгакову,- рассказывает М. Шагинян,- к его мимозной какой-то недотрагиваемости, травмируемости, когда возникал спор о религии, я питала слабость. Он казался мне умное и тоньше всех остальных в этой группе"9.
Монархизм Булгакова в это время приобретает черты какого-то интимного чувства. Вот что рассказывает о зарождении "мистического чувства" любви к царю у С. Н. Булгакова Е. К. Герцык: "Проводя лето обычно в Крыму, под Ялтой (имение родителей его жены), он не раз сталкивался с автомобилем царя, внезапно налетающим из-за поворота, и вид этого ужо обреченного человека - злой судьбы России - пробудил в нем безмерную жалость - влюбленность. Всеми навыками радикальной политической мысли он знал неизбежность революции и гибели царизма, но сильнее этого изнутри жгло его чувство к несчастному помазаннику"10. Монархизм Булгакова, как уже упоминалось, носил скорее платонический характер и не помешал ему, например, в 1910 г. демонстративно оставить университет в знак протеста против реакционной политики, проводимой главноуправляющим министерства народного просвещения Л. А. Кассо.
Последние предвоенные годы Булгакова были заполнены особенно интенсивной научной и публицистической деятельностью. В 1910 г. он вместе с Е. Трубецким, Н. Бердяевым и В. Эрном организует в Москве книгоиздательство "Путь", в котором выходят вскоре два основных его сочинения: "Два града" (1911, 2 тома) и "философия хозяйства". В Московском коммерческом институте он читает прекрасные курсы лекций "История социальных учений XIX в." и "История экономических учений", не утратившие своего научного значения и по сей день.
В 1912 г. Булгаков издает и одновременно защищает в качестве докторской диссертации первую часть "Философии хозяйства", оказавшейся последней его крупной работой, написанной в условиях "мирного времени".
Первую мировую войну Булгаков воспринял как крах "мещанской" цивилизации Европы. Настроен он был, как это видно из его статей и из воспоминаний современников, вполне патриотически. Наиболее глубокое осмысление войны Булгаков дал, пожалуй, в небольшой своей брошюре "Война и русское самосознание" (М., 1915). И наконец, революция...
"Революцию я пережил трагически,- пишет Булгаков в "Автобиографических заметках",- как гибель того, что было для меня самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви".
Отношение С. Н. Булгакова к революции лучше всего выражено им, помимо незаконченного отрывка "Пять лет", в брошюре "Христианство и социализм" (М., 1917) и в "современных диалогах" "На пиру богов. Pro и contra" (София, 1921). Читая и анализируя их, надо только иметь в виду, что такие понятия, как "социализм", "марксизм" и "большевизм", с точки зрения Булгакова, разные и в чем-то даже противоположные понятия. В диалогах "На пиру богов" Булгаков устами персонажей высказывает разные мнения о большевизме, отражающие в той или иной степени точки зрения разных слоев русской интеллигенции. Приведем несколько наиболее резких из них.
Дипломат: "...Большевизм есть прямое наследие и продолжение войны, ее гниение, перешедшее вовнутрь. Это-то и есть наилучшее обличение войны, всей ее преступности..." (С. 25).
Общественный деятель: "...Большевизм насильственно вогнал нас в "буржуйность", пробудил тот самый дух, который собирался заклясть. Сам он есть буржуйность "пролетариев", добравшихся до жизненного пира и развалившихся с ногами прямо на столе" (С. 27).
Генерал: (чуть ниже он говорит о себе: "Я - неисправимый романтик самодержавия"): "...Не знаю, какой уж - немецкий или масонский - заговор здесь был, чтобы свалить Россию. Но революция, да еще во время войны, явилась настоящим самоубийством для русской государственности" (С. 28).
Вот еще несколько выдержек из речей Дипломата, который, как и другой персонаж, Беженец, пожалуй, в наибольшей степени выражает точку зрения самого автора: "...резолюции у нас никто не делал и даже никто по-настоящему так скоро и не ждал: она произошла сама собой, стихийной силой..." (С. 31).
"Русская революция наглядно показала, что монархических чувств в русском народе уже нет. Монархия в России может явиться только плодом иноземного вмешательства и сразу же утратит свой народный характер... А отсюда следует, что надо искать здоровых форм народоправства, в виде республиканского парламентаризма, который освободит нас от тисков социальной тирании и олигархической диктатуры" (С. 41).
"России надо во что бы то ни стало установить у себя правовой порядок, упрочить здоровую государственность и справиться, наконец, с хаотической распыленностью. Нужно ввести жизнь в ограниченные берега. Римское право - вот чего нам не привила наша история. А вне правового пути нас ждет политическая и вместе и культурная смерть" (С. 46).
Вот с такими приблизительно настроениями С. Н. Булгаков принимает решение, переломившее его жизнь надвое: 11 июня 1918 г. в Москве в Даниловском монастыре он принимает сан священника. Еще летом 1917 г. он активно участвовал в работе Собора русской православной церкви (им написано первое послание избранного па Соборе Патриарха Тихона). Теперь, после обряда рукоположения, его избирают членом Высшего Церковного Совета.
На следующий год он,- полагая, что ненадолго,- поехал в Крым, чтобы забрать оттуда семью (причем в Москве остался его сын Федор, которого он больше не увидит), но в Москву он вернуться не сумел.
В Симферополе Булгаков становится профессором политэкономии и богословия. Здесь он много и плодотворно работает: "Трагедия философии", "Философия имени" (эту книгу он считал самой "философской" из своих сочинений), здесь он пишет "На пиру Богов", "У стен Херсониса" (не опубликовано), автобиографию (после высылки Булгакова рукопись была зарыта в землю и погибла). Здесь, в "страдные дни своего крымского сидения", Булгаков испытал католическое "искушение" (это тоже своеобразная русская традиция, которой заплатили дань многие мыслители России от П. Я. Чаадаева до А. А. Блока). В эти годы С. Н. Булгаков увидел, что русская православная церковь "страшно беззащитна и дезорганизована, не готова к борьбе" (С. 48). "Теперь я думаю,- писал он незадолго до кончины,- что духовная, мистическая готовность ее оказалась гораздо большей, чем тогда казалось. Я не знаю, выдержало ли бы такое гонение централизованное католичество, если бы и его постигло такое же гонение" (Там же). Между прочим, будучи членом Высшего Церковного Совета Юга России, Булгаков отказался дать такое определение социализма, которое позволило бы церкви предать его (социализм) анафеме.
В конце 1920 г. войска Деникина и Врангеля были выбиты с территории Крыма ударами Красной Армии. Булгаков не ушел в эмиграцию, предпочитая горькому хлебу чужбины неизвестность ожидающей его судьбы. "По причине священства" он был вскоре исключен из числа профессоров Симферопольского университета. Это было уже второе его исключение; первое - в 1918 г. в Москве - произошло сразу же после его рукоположения.
И наконец, в самом конце 1922 г. последовала высылка Булгакова за пределы Советской России. Подробные обстоятельства ее неизвестны. Сам Булгаков не написал "опыта философской автобиографии" подобно Н. А. Бердяеву. 31 августа 1922 г. в газете "Правда" было опубликовано сообщение о высылке "по постановлению ГПУ наиболее активных контрреволюционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов в северные губернии. Часть за границу". До сих пор неизвестен ни полный список высланных, ни главный инициатор этого беспрецедентного в истории по своим масштабам остракизма (часть высланных инициатором считает Ленина, другие - Троцкого). "Список высланных философов сегодня представляет собой перечень крупнейших русских философов XX в.: Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лос-ский. С. Булгаков. Ф. Степуп, Б. Вышеславцев, И. Лапшин, И. Ильин, Л. Карсавин, А. Изгоев, С. Трубецкой. Этот список почти целиком составлен Лениным"11.
Эта акция входила в общую программу "очистки земли российской от всяких вредных насекомых"12. Независимо от осознаваемых ею целей, она достигла значительного снижения уровня национального самосознания народа, придала ему ту "энергию заблуждения", без которой, конечно, невозможно заставить его самозабвенно работать ради воплощения утопии.
В октябре 1922 г. С. Н. Булгаков был арестован и доставлен из Ялты (где он жил в это время) в Симферополь. Здесь ему сообщили о принятом решении выслать его за границу и обязали подписать бумагу, в которой говорилось, что в случае возвращения в РСФСР он будет расстрелян. Высылаемым, в том числе Булгакову, "разрешалось взять с собой: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм ц по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две нары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, драгоценные камни были к вывозу запрещены, надо было снять с шеи даже нательные кресты. Кроме вещей разрешалось взять по 20 долларов валюты"13.
30 декабря 1922 г. С. Н. Булгаков с семьей (кроме сына, оставшегося в Москве) отбыл в Константинополь, где пробыл несколько месяцев. В марте 1923г. он переехал в Прагу, а оттуда в 1925 г.- в Париж, где окончательно обосновался.
Жизнь С. Н. Булгакова за границей внешне сложилась вполне благополучно. Уже в Праге он был избран профессором церковного права и богословия, в Париже он профессор богословия и декан Православного богословского института. В период времени с 1925 по 1938 г. он совершает ряд поездок по странам Европы и Америки (Англия, Швейцария, Греция, Югославия, США и Канада), по-прежнему много работает. Среди его работ, созданных за это время, можно назвать: "Св. Петр и Иоанн", "Купина неопалимая", трилогия "Агнец Божий", "Невеста Агнца", "Утешитель" - и это еще далеко не полный перечень. В одном только отношении это теперь уже "другой" Булгаков: теперь перед нами настоящий богослов, всецело погруженный в теологические проблемы, распрощавшийся с философией, по-видимому, навсегда. Хотя и здесь не обходится без исключений: в 30-е годы он пишет несколько статей на интересующие пас здесь темы. Среди них - "Душа социализма" (Новый град. 1931. N 1; 1932. N 3; 1933. N 7), "Нации и человечество" (Там же, 1934. N 8), "Православие и социализм" (Путь. 1930. N 20), небольшая брошюра "Христианская социология" (Париж. 1927). Сохранились и неопубликованные работы С. Н. Булгакова - "О расизме", "Размышления о войне". Но эти статьи занимают теперь очень скромное место в его творчестве. Навсегда простился Булгаков и с литературной критикой, и когда в 1926 г. Ю. И. Айхенвальд обратился к нему с просьбой написать статью па "литературно-философскую тему", Булгаков ему вежливо отказал, так как "от этих тем совершенно отошел" (ЦГАЛИ. Ф. 1175. On. 2. Ед. хр. 84).
И дело, по-видимому, не только в логике "имманентного развития булгаковской мысли "от марксизма к идеализму" и далее - к богословию. Вероятнее всего, он пришел к вполне справедливому выводу, что России в том положении, в каком она оказалась, помочь нельзя ничем - ни словом, ни делом. Время и только время способно ее исцелить. "В огненном испытании, которое проходит Россия,- писал Булгаков,- одинаково проявились и... духовная безоружность православного народа в борьбе с дьявольщиной большевизма, направленной против святыни и религиозной веры, так и особое призвание и религиозный гений русского народа" (С. 54). В своем докладе на первом съезде РСХД в 1925 г. Булгаков высказался на этот счет вполне определенно: "Единственно правильная верность своей родине - это жизнь в церкви". И там же: "Слова ,,работать над собой" звучат прописно. И однако, это единственный ответ, который можно дать на вопрос "Что делать?""14
Богословское творчество Булгакова выходит за пределы настоящей статьи (и нашей компетенции). Отметим только, что и эта его деятельность не обошлась без терний. "Агнец Божий" повлек за собой обвинение автора в ереси, причем как со стороны Московской Патриархии, так и со стороны зарубежной Православной церкви. Булгаков вынужден был оправдываться: "Торжественно заявляю, что как православный священник, я признаю все истинные догматы Православия. Моя социология чужда не действительному содержанию этих догматов, а только их богословскому истолкованию и является личным богословским убеждением, которому я никогда не придавал значения обязательного церковного догмата"15. Внешне карьера священника Булгакову тоже не слишком удалась. Своего собственного храма за все 25 лет священства он никогда не имел, "а всегда "сослужил" архиереям или настоятелям или имел лишь случайные службы" (С. 53-54). Размышляя в конце жизни о своей судьбе, С. Н. Булгаков не без горечи признался: "...чужой среди своих, свои среди чужих, а в сущности нигде не свой" (С. 31-32).
В начале 1939 г. врачи определили у него рак горла. В марте и апреле ему сделали две операции, в результате чего он практически потерял голос. В том же году он написал одно из самых проникновенных произведений - "Софиологию смерти", где мысли умирающего человека в последний раз обращены к главным темам его жизни. Булгаков понимал свою обреченность и не надеялся на чудо: "Освобождение от смерти всемогущим действием Божиим, как deus ex machina, было бы уничижением человечества, умалением его свободы, низведением его к положению объекта, пассивно восприемлющего спасение, т. е. упразднением самого человеческого естества"16.
Первую операцию Булгаков наблюдал в зеркало, которое было над ним в потолке. Долгие дни после операции были наполнены физическими страданиями. "Главное же страдание,- по признанию С. Н. Булгакова,- было от сознания, что никогда я не смогу стоять у Св. Престола и совершать литургию"17. После перенесенной операции он прожил еще пять лет. Служить он не мог, и большую часть своих проповедей записывал и раздавал. В 1987 г. был издан его сборник "Слова, поучения, беседы". В нем, по наблюдению Б. Любимова, "самым частым словом... является "радость""18.
Он все же до конца жизни оставался, как и Владимир Соловьев, "религиозным материалистом". В качестве эпиграфа к "Софиологии смерти" он избрал слова из книги Экклезиаста: "Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, пи мудрости". Эти же слова вполне могут служить эпиграфом ко всей его жизни.
Умер Сергей Николаевич Булгаков в ночь с 5 на 6 мая 1944 г. от кровоизлияния в мозг и похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, недалеко от Парижа.
2. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ С.Н.БУЛГАКОВА
Мировоззрение С. Н. Булгакова слишком сложно, а творческое наследие его слишком велико, чтобы можно было в небольшой статье проанализировать его с исчерпывающей полнотой. В данном случае наша задача облегчается тем, что цель настоящей статьи - анализ идейного содержания главным образом "Философии хозяйства" - позволяет нам значительно сузить спектр рассматриваемых проблем и ограничить наш анализ такими понятиями, как "социология" (хотя и со всем многообразием ее связей, как их понимает С. Н. Булгаков), "социализм", "марксизм", "религия" и т. п. Тем не менее для правильного понимания этого практически последнего философского в собственном смысле слова произведения Булгакова необходимо хотя бы вкратце рассмотреть основные этапы его духовной эволюции и основные черты его мировоззрения.
Большинство исследователей творчества Булгакова выделяют три этапа его эволюции: легальный марксизм (1896-1900), религиозная философия (1901-1918), богословие (с 1919)19. Примерно такие же периоды выделяет В. В. Зеньковский: он говорит о периодах "чисто философского (в том числе и религиозно-философского творчества)" и "богословского творчества" Булгакова20. Попытка "понять философское и богословское творчество о. Сергия Булгакова в его совокупности и внутреннем единстве, истолковать его как целое, понять его как систему"21 неизбежно влечет за собой "теологизацию" всего его творчества, что, возможно, и имело бы смысл для самого С. Н. Булгакова в плане личной апологетики, но мало что дает для научно-критического понимания сложного комплекса его идей.
Поэтому мы будем говорить о периоде собственно философском и периоде теологическом (который в целом остается за пределами этой статьи). Для правильного понимания "творческой эволюции" Булгакова очень важна "отправная точка" его мировоззрения. Из его биографии мы уже знаем, что начинал он свою научную карьеру как "политэконом" и "марксист". Такое начало типично для людей того поколения, что и Булгаков, вспомним хотя бы, что и В. И. Ленин учился на юридическом факультете и свою публицистическую деятельность, как и Булгаков и почти одновременно с ним, начал с критики народничества.
И тем не менее почти сразу же пути их диаметрально разошлись. Возникает вопрос: почему? Можно, конечно, сослаться на факты личной биографии обоих мыслителей и именно ими объяснить это расхождение. Но подобное объяснение следует сразу же отвергнуть по двум причинам. Во-первых, с его помощью можно объяснить какие угодно идейные разногласия, но никогда нельзя объяснить, почему люди, несмотря на все различие начальных этапов своего развития и всех последующих "эволюции", все-таки иногда, и не так уж редко, становятся единомышленниками. Во-вторых, семейное воспитание и В. И. Ленина, и С. Н. Булгакова, если отвлечься от всяких чисто педагогических деталей, обнаруживает больше сходства, чем различия, и у обоих было религиозным. Оба они еще в отрочестве порвали с религией (причем Булгаков даже раньше Ленина) и почти одновременно пришли к марксизму.
Можно, проанализировав ранние работы В. И. Ленина и С. Н. Булгакова,- а это тем легче сделать, что они близки друг другу по своей проблематике,- констатировать, что взгляды С. Н. Булгакова лишь приблизительно можно назвать вполне марксистскими, что его отношение к наследию Маркса весьма и весьма отличается от ленинского22. И тем не менее в первой монографии С. Н. Булгакова "О рынках при капитализме" (М., 1897) В. И. Ленин отозвался так: "Книжечка Булгакова <...> недурна"23. И в дальнейшем, когда обнаружились первые расхождения между ними, В. И. Ленин писал: "Конечно, полемика между своими неприятна, ... но замалчивать разногласия уже не только неприятно, а прямо вредно,- да и нельзя замалчивать тех коренных разногласий между "ортодоксией" и "критицизмом", которые выступили в марксизме немецком и русском"24.
Итак, несмотря на "коренные разногласия", Ленин считал Булгакова в то время "своим", т. е. марксистом, хотя и относящимся к тому направлению марксизма, которое он назвал "критицизмом". Здесь не место входить во все довольно сложные детали той полемики, которую вели Ленин и Булгаков па протяжении почти всей жизни. Но необходимо сказать, что начальная точка их пересечения так же закономерна, как и дальнейшее стремительное их расхождение. Закономерность эта касается такого еще практически не изученного явления, как "вхождение" марксизма в русло той пли иной национальной философской традиции. Прежде всего, конечно, русской, хотя сходные закономерности наблюдаются и во Франции, и в Германии, и в Англии. "Русский марксизм" возник как продолжение (и завершение) революционной и политической мысли, берущей начало от декабристов. В рамках этой традиции политическая мысль и политическое действие безусловно превалируют над мыслью философской в строгом смысле слова.
Но поскольку марксизм не только политическое, по и философское учение, он в последнем своем качестве так или иначе должен быть ассимилирован любой национальной философской традицией, в том числе и русской. "Трагизм" здесь заключался в том, что к тому моменту, когда Россия "выстрадала" марксизм, она только-только выстрадала и свою национальную философию. Философская традиция в России по существу только зарождалась и к исходу XIX столетия оказалась неизмеримо слабее, чем традиция революционной политической мысли (подобно тому как и буржуазные политические партии в России оказались значительно слабее РСДРП). Именно поэтому вся русская философская мысль - если она в той или иной степени не соприкасалась с революционным движением - с самого начала была с точки зрения побеждающего марксизма отнесена в разряд heredit.as jacens (известная статья В. И. Ленина, написанная в 1897 г., так и называется: "От какого наследства мы отказываемся?") и в дальнейшем обречена на уничтожение.
Итак, принадлежность Булгакова к русской философской традиции определила и его отношение к марксизму и социализму. Здесь нам необходимо ознакомиться с особенностями индивидуального философского мышления Булгакова, чтобы понять и его личное отношение к этой традиции и то место, которое он в ней занял.
Л. А. Зандер, ученик и крупнейший знаток философского и богословского творчества С. Н. Булгакова, насчитывает четыре "личностных фактора", которые придают ему облик чисто "русского мыслителя". Вот эти факторы: 1) почвенность, 2) эсхатологичпость, 3) необычайная способность к философскому и богословскому синтезу, 4) чисто русское стремление доходить во всем до конца25.
Указанные факторы, действительно, присущи всем русским философам-идеалистам, современникам и ровесникам Булгакова. Но "удельный вес" каждого из них у каждого индивидуален. У Булгакова, например, явно преобладают два последних фактора, что и привело его, как увидим ниже, к "трагедии философии".
Но для начала рассмотрим, как, например, такой фактор, как почвенность, повлиял на отношение Булгакова к социализму. Уже упоминалось, что понятия "социализм", "марксизм" и "большевизм" Булгаков не только различает, но и в чем-то противопоставляет. Сказать, что он "признает" социализм,- значит сказать мало или почти ничего. После Достоевского с его идеалом "русского социализма", после Вл. Соловьева признание "правды социализма" стало своеобразной традицией русской философии. Булгаков стремится дать глубинное обоснование социализму, находя его в "онтологическом коммунизме бытия". Мысль эта довольно оригинальна, но слишком обща. "Почвенность" мыслителя проявляется лишь тогда, когда от этого общего положения он переходит к конкретному анализу возможного будущего социалистического устройства России. Он исходит при этом из того факта, что Россия - страна преимущественно крестьянская и, чтобы сохранить свое национальное своеобразие, свою уникальную культуру, она должна таковой оставаться и при социализме, даже если в процентном отношении к общему населению крестьянство в будущем сократится. Дело в том, что русское крестьянство является не только "классом" с точки зрения социальной структуры, но, как свидетельствует этимология самого слова (от "христианства"), является носителем русского духовного начала. Опустим ряд промежуточных логических ступеней и сообщим читателю лишь конечный вывод Булгакова по "аграрному вопросу". С его точки зрения, "равнозначащими с хозяйственным коллективизмом являются и некоторые формы хозяйственного индивидуализма, именно мелкое единоличное хозяйство... Если можно еще спорить против самостоятельного крестьянского хозяйства по соображениям экономической целесообразности и прогресса, то с точки зрения социального идеала этого рода индивидуализм является вполне равноценным с коллективизмом. Вот почему, между прочим, считая ошибочными чисто экономические аргументы против крестьянского хозяйства, я включаю в свою экономическую программу наряду с коллективизмом в промышленности крестьянский индивидуализм в земледелии (конечно, восполняемый развитием земледельческих коопераций), причем с точки зрения общего идеала свободы такое на первый взгляд противоречивое сочетание оказывается последовательным и внутренне согласным"26.
Как видим, конкретные представления Булгакова о социализме вполне приемлемы с современной точки зрения. Более того, в период нэпа Россия была довольно близка к реальному их воплощению, но, к сожалению, дальнейшее ее развитие пошло не "по Булгакову", а по пути "раскрестьянивания" и-о чем часто забывают - "расхристианивания" русского крестьянства.
Отношение Булгакова к марксизму гораздо сложнее. Само собой разумеется, что марксизм для пего - "отвлеченное начало"27. Не столь уж удивительна и сама постановка им вопроса о К. Марксе как "религиозном типе". Нельзя не согласиться с мнением П. С. Страхова, что понятие религиозности Булгаков сплошь и рядом трактует предельно широко28, и хотя В. И. Ленин, высмеивая Булгакова как автора понятия "атеистической религии", слегка ошибся адресом (его автором в действительности является материалист Геккель), сам Булгаков, обычно довольно чувствительный ко всякого рода логическим противоречиям, нередко употребляет это словосочетание, не считая его, по-видимому, contradictio in adjecto.
Но сама по себе "теологизация" западноевропейской философии - это тоже своеобразная традиция русской религиозной мысли, начавшаяся чуть ли не с Чаадаева (из более близких к Булгакову примеров укажем хотя бы книгу И. А. Ильина "Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека"). "Религиозное истолкование" учения Маркса является для Булгакова частью более общего (религиозного же) истолкования социализма вообще. "Социализм,- пишет он в книге "Два града",- это рационалистическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык политической экономии переложение иудейского хилиазма, и все его dramatis per-sonae поэтому получили экономическое истолкование. Избранный парод, носитель мессианской идеи, или, как позднее в христианском сектантстве, народ "святых", заменяется пролетариатом с особой пролетарской душой и особой революционной миссией, причем избранность эта определяется уже не внутренним самоопределением, как необходимым условием мессианского избрания, но внешним фактом принадлежности к пролетариату, положением в производственном процессе, признаком сословности. Роль сатаны естественно досталась на долю класса капиталистов, возведенных в ранг метафизического зла, точнее заступавших их место в социалистическом сознании за свою профессиональную склонность к накоплению... Мессианским мукам и последним скорбям здесь соответствует неизбежное и, согласно "теории обнищания", все прогрессирующее обеднение народных масс, сопровождаемое ростом классовых антагонизмов, а на известной ступени этого процесса происходит социальная революция, осуществляемая или через посредство "диктатуры пролетариата", захватом политической власти, или же "action directe" (прямое действие - фр.) французского синдикализма"29.
Булгаковская "теологизация" марксизма, а также его мысль о "богоборческом" характере марксизма получила широкое распространение на Западе и пользуется там славой классического образца критики марксизма. И хотя последняя мысль, по признанию самого Булгакова, принадлежит Масарику, именно булгаковский ее вариант приобрел всеобщее признание.
Тем не менее, на наш взгляд, именно социологические (или, если угодно, социальные) выводы этой критики составляют наиболее ценную часть творческого наследия Булгакова. Современному читателю трудно будет освободиться от ощущения, что в своих социальных прогнозах Булгаков оказался, увы, пророком. Его мысли о том, что атеистическое общество неизбежно придет к обожествлению государства и в лице его земного владыки создаст себе нового "божественного Цезаря", что марксизм неизбежно требует "канонизации" К. Маркса (это одна из важнейших идей "Философии хозяйства"),-все эти мысли, к сожалению, подтвердились нашей новейшей 70-летней историей.
В связи с этим исследование личности К. Маркса, предпринятое Булгаковым, следует признать весьма актуальным. Отметим, между прочим, что пристальное внимание к той или иной личности тоже вполне традиционно для русской культуры. Нигде в мире, наверное, внимание читателей не привлекает личность поэта, писателя, философа и вообще любого, чье слово получает значительный общественный вес, в той степени, как в России. Именно поэтому так популярны и любимы у нас всякого рода беллетризованные и научные биографии. Здесь не место анализировать причины этого явления. Достаточно указать на него, чтобы убедиться, что Булгаковым в его очерке о К. Марксе движет не озлобление "ревизиониста", а более благородные мотивы.
Конечно, в целом ряде случаев оценки и суждения Булгакова о К. Марксе носят не совсем точный, а иногда просто ошибочный характер (большинство из них указаны в комментариях к очерку). Причины этих ошибочных суждений чаще всего - в незнании фактического материала. Правда, по уровню фактических знании о Марксе современный советский читатель едва ли намного обогнал Булгакова: сборники воспоминаний о Марксе, изданные у нас в стране, составлены тенденциозно, а научные и научно-популярные биографии пишутся, как правило, с едва прикрытой целью канонизировать личность творца теории научного коммунизма.
К числу открытий Булгакова следует отнести тот факт, что за стремлением к канонизации К. Маркса он увидел не научную или иного рода недобросовестность, а имманентную закономерность самого марксизма. С одной стороны, Булгаков признает, что "экономический материализм" "насквозь этичен", с другой - замечает, что он "чужд всякой этики". Может показаться, что это конечное противоречие самого Булгакова, но мы склонны думать, что здесь он обнаружил диалектическое противоречие самого марксизма, содержащее в себе возможность и дальнейшего творческого развития, и (если его "не замечать") самого тяжкого "застоя". Марксизм действительно "чужд всякой этике" в том смысле, что обосновывает свои выводы и прогнозы, исходя не из требований этического идеала, а из самой действительности. Но он же и "насквозь этичен", так как, отвергая всякую религию, отвергает тем самым и религиозную нравственность, па место которой ему нечего поставить, кроме самого себя. Здесь-то и возникает потребность в "философской канонизации" К. Маркса, поскольку ни одна "живая" система нравственности не обходится без этического идеала - живого (реального или мифического - это не имеет значения) носителя, воплощения этой нравственности. В христианстве таким воплощением является Иисус Христос, в марксизме... Карл Маркс. "Вера в авторитет - такова гносеология экономического материализма и логическая основа" и таково окончательное суждение Булгакова о марксизме, высказанное им на последних страницах "Философии хозяйства". Можно долго и, по выражению Ю. Трифонова, "сладостно" комментировать эту мысль С. Н. Булгакова, но задача наша иная30.
До сих пор наш анализ был сосредоточен в основном на критических аспектах философской мысли Булгакова. Теперь настало время обратиться к "позитиву". Одно из основных затруднений, с которым встречается и исследователь и читатель философских сочинений Булгакова, заключается в стремительной текучести его взглядов, которые очень трудно "оформить" в виде единой стройной системы. Можно ли вообще говорить о "системе философии" С. Н. Булгакова? Сам он несомненно стремился к созданию системы, что, с одной стороны, было следствием его "германофильства", а с другой - укоренившегося в России к началу XX в. "немеческого" (по выражению 3. А. Штейнберга31) представления о философии. Построить систему философии Булгакову мешала не только его стремительная философская "эволюция", по еще, по крайней мере, два обстоятельства, которые он, по-видимому, не вполне осознавал. Одно из них относится к общей ситуации, сложившейся в мировой философии к началу XX в. Это было время крушения классической парадигмы развития философской мысли, время оформления основных современных направлений буржуазной философии, каковыми являются экзистенциализм и позитивизм. Отрицая последний, Булгаков не примкнул и к первому (хотя в его произведениях присутствуют многие экзистенциалистские "мотивы", и внимательный читатель их несомненно заметит). Его идеальные представления о философии - строго классические, недаром он помещает себя в конце шеренги таких мыслителей, как Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Вл. Соловьев. Прежде всего, конечно, Шеллинг, которого Булгаков считал своим непосредственным предшественником. Многочисленные цитаты из Шеллинга, которыми буквально пестрит "Философия хозяйства", как будто убеждают в общности проблематики, владевшей умами обоих мыслителей. Но между ними существует еще и "тайное сродство", которое обнаруживается при сопоставлении конечных результатов их философского творчества: они оба не смогли построить завершенную философскую систему, хотя оба стремились к этому. Неспособность завершить систему философии привела Шеллинга к той форме философского идеализма, которая очень мало, но все же отличается от теологии. Булгаков эту границу - между философией и богословием - переступил, причем сделал это решительно и бесповоротно. Невозможность построения системы философии Булгаков осознал как трагедию философии, что, безусловно, являлось и его личной трагедией как философа. Отметим любопытный внешний факт: будучи философом, Булгаков написал, по существу, лишь одну книгу (которую мы сейчас назвали бы "монографией"), в которой сделал попытку систематического изложения своего мировоззрения. Эта книга - "Философия хозяйства". Все остальные его книги являются сборниками статей, весьма различными и по проблематике и по жанру (таковы "сборники статей" "От марксизма к идеализму", "Два града", "Тихие думы"). Лишь стоя на самой грани между философией и богословием (и фактически уже переступая эту грань), Булгаков в сравнительно короткое время создал целую серию монографий, в которых тема "прощания с философией" занимает ведущее место. Таковы сочинения, завершающие философское поприще Булгакова: "Свет невечерний", "Философия имени", "Трагедия философии".
"Философ,- пишет он в "Трагедии философии" (эту книгу можно по праву считать своего рода теоретической автобиографией Булгакова),- не может не летать, он должен подняться в эфир, но его крылья неизбежно растаивают от солнечной жары, и он падает и разбивается. Однако при этом взлете он нечто видит и об этом видении и рассказывает в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как и настоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же), никогда не врет, не сочиняет, оп совершенно искренен и правдив, и однако, удел его - падение. Ибо он восхотел системы: другими словами, он захотел создать (логически) мир из себя, из своего собственного принципа "будете как был",- но эта логическая дедукция мира невозможна для человека"32. Теперь Булгаков все философские системы рассматривает не как "отвлеченные начала", а как "ересь"33. "История философии есть трагедия. Это - повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых его взлетах"34. Остается, как и древним, утешаться мыслью, что "Дедалов сын себя падением не обесславил".
Одна из современниц Булгакова, знакомая с ним в пору его философского расцвета, пишет, что "цельного представления о его мировоззрении" у нее никогда не было. "Причина может быть и в том, что цельности не было и в нем самом". Булгакову "не хватало мужества пристрастий - или же оно давалось ему нелегко, с мукой"35. Это пишет Евгения Герцык, сестра поэтессы Аделаиды Герцык, чей муж - Д. Жуковский был довольно видным книгоиздателем. Наверное, так оно и было. И только с принятием священства, только "переквалифицировавшись" из философа в богослова, Булгаков обрел и "цельность мировоззрения", и "мужество пристрастий", которых ему недоставало. Теперь уже и собственное философское творчество представлялось ему предварительной ступенью к богословию, своего рода "богословской пропедевтикой". Недаром же он писал: "Философский идеализм есть необходимый путь к религии, представляет станцию, которой не может миновать современный человек в своем стремлении к религиозному мировоззрению"36.
Итак, философское поприще С. Н. Булгакова закончилось. И хотя земная жизнь его продолжалась и ему еще предстояло более двадцати лет богословского творчества, наш обзор его философского мировоззрения (поневоле краткий и поневоле фрагментарный) можно было бы закончить, если бы не одно удивительное на первый взгляд обстоятельство: покончив расчеты со своей "философской совестью", Булгаков еще не кончился как социолог. Впереди было еще одно открытие Булгакова - "христианская социология", но прежде чем сказать о ней несколько слов, необходимо выяснить место Булгакова и его "Философии хозяйства" в контексте мировой социологической мысли. И вообще дать ответ на вопрос, которого давно уже, наверное, ждет от нас читатель: можно ли считать Булгакова социологом и какое место занимает его книга "Философия хозяйства" в ряду социологических сочинений начала XX в.?
3. С. Н. БУЛГАКОВ КАК СОЦИОЛОГ
"Философия хозяйства" - здесь спору быть не может - прежде всего, преимущественно книга философская. Слово "социология" в пей встречается не так часто. В самом узком смысле социологии посвящена только глава VII - не самая обширная и, в общем, не самая богатая оригинальными идеями, если сравнивать ее с главами III, IV и V. Социологическая проблематика выделена специально - и это уже немало,- но имеет явно подчиненное значение. Так не посягают ли социологи на нечто вовсе им не принадлежащее? Не пытаясь тягаться с философами, мы должны все-таки поставить наш ответ на этот вопрос в зависимость от более точного определения самого понятия социологии.
Нелишне будет вспомнить сначала, что создание книги Булгакова приходится па то же самое время, когда выходили классические социологические сочинения. Не уходя в утомительные перечисления, не забудем ни о "Социологии" Г. Зиммеля (1908 г.), ни об "Элементарных формах религиозной жизни" Э. Дюркгейма (1912 г.), ни о втором издании, открывшем через четверть века после первого ряд многократных переизданий, знаменитой книжки Ф. Тенниса "Сообщество и общество" (опять-таки 1912 г.- тот самый, когда и Булгаков выпустил свой труд), ни о многочисленных статьях М. Вебера, с 1904 г. регулярно появлявшихся в "Архиве социальной науки и социальной политики" и в "Логосе" (именно в последнем выходит в 1913 г. одно из самых принципиальных его сочинений "О некоторых категориях понимающей социологии"). Наконец - чтобы исчерпать этим список бесспорных классиков- назовем и В. Парето, чей главный труд "Трактат по общей социологии", опубликованный, правда, в 1916 г., был закончен и подготовлен к публикации все в том же бесконечно плодотворном 1912 г.!
Само по себе это еще ничего не говорит о характере книги Булгакова,- но это свидетельство духовного характера эпохи. Социология становилась классической (тогда еще никто не называл ее так и "отцы-основатели" именовали себя как угодно, но не "профессорами социологии"), т. е. она становилась вполне сама собой и в таком качестве оказывалась настоятельной духовной проблемой, основывалась па определенного рода философии и одновременно ее собой питала. Определим поэтому, что делает классическую социологию классической.
При всех различиях подходы Дюркгейма, М. Вебера, Зиммеля, Тенниса роднит стремление обосновать суверенность социологического знания, независимость установленных в нем положений от положений других паук, будь то физиология, психология, биология, не говоря уже о философии и религии, традиционно утверждавших свои приоритеты в сфере духа. Как пишет об этом сам Булгаков, "растущая специализация есть закон развития науки... Каждая наука создает свой собственный космос, стремясь выработать законченную систему научных понятий". Перечисляя эти специализировавшиеся пауки, Булгаков, правда, не называет социологии, но очевидно, что эта тенденция имеет силу и для нее. Социология действительно оказалась в ряду других отраслей знания, ускоренно дифференцировавшихся и по мере созревания оформлявших свою самостоятельность в рамках методологической саморефлексии.
Наверное, не случайно единство знания обосновывалось тут в первую очередь именно методологически, с сильной опорой на неокантианство, как это особенно явственно в случаях с Дторкгеймом и М. Вебером. Это позволяло уходить от сложного и, как представлялось, малопродуктивного поиска в столь деликатной сфере, какой является исследование общей, совокупной реальности, в которой "размещается" реальность социальная. При этом, однако, вольно или невольно совершался важный перекос. При отсутствии общей идеи космоса космос определенной науки - в данном случае социологии - распространялся в то неопределенное "нечто", которое должно было его окружать. Отсюда все бесконечные "измы" той эпохи: "экономизм", "биологизм", "физиологизм", "психологизм" и "социологизм". Здесь наиболее характерен пример Дюркгейма с его социологическим обоснованием философских категорий.
Но это лишь одна сторона дела. Поскольку социолог изучает между прочим и статистические закономерности социальной жизни, он восприимчив к идеалу "позитивной науки" и даже может принять - при определенном повороте рассуждений - за концептуальный образец математическое естествознание. А поскольку социолог изучает "смысловые связи", уникальные культурные констелляции, он может, напротив, избрать за образец "науки о духе". Но в обоих случаях он явно недооценит тот факт, что в социальное взаимодействие вступают люди, что называется, "из плоти и крови", что социальное взаимодействие, как "реальность своего рода", должно быть как-то отнесено к психологии, физиологии, вообще антропологии в самом широком смысле слова. Поэтому-то классическая социология - при всем ее видимом пиетете по отношению к неокантианству - вполне неокантианской никогда не была и быть не могла. Локальным образом она все время как-то определяется (хотя бы и только полемически) в своих связях с другими науками о человеке. Более общим образом она склоняется к антропологии и тяготеет уже к философии жизни.
Это - предел для классической социологии. Не разрабатывая специально философской антропологии, не углубляясь в метафизику (дальше всех здесь пошел, видимо, Г. Зиммель), она вынуждена довольствоваться тем, что ей предлагают господствующие философские течения.
Если же (как это чаще всего и бывало) ей этого оказывалось недостаточно и она предпринимала более фундаментальные попытки самообоснования, последние основания бытия и познания оставались ей все-таки недоступны. В принципе это не трагедия для частной науки. Когда ее предмет, основные понятия, методы уже определены, когда уже получены полезные результаты, тогда можно и поступиться высшей проблематикой. Поэтому период становления - это время для нее самое сложное, трудности самоопределения сопровождаются бурей и натиском, стремлением вынести как можно дальше межевые столбы своей предметной области. Но со временем все устраивается, неистовый физикализм, биологизм, психологизм вступает в более умеренные пределы. Но с социологией дело обстоит иначе.
Дело в том, что социология не имеет наглядного, данного также и в созерцании предмета. Общественную солидарность невозможно узреть непосредственно, говорит Дюркгейм в "Разделении труда". Никакой химический анализ вещи не позволит нам обнаружить стоимость товара, говорит Маркс в "Капитале". И слова Булгакова, что "социальное тело не поддается восприятию органов наших непосредственных чувств и прячется от них как будто в четвертое измерение..." имеют тот же самый смысл. Таким образом, социолог не может в отличие, например, от биолога уже в созерцании непосредственно определить свой предмет (мы не берем все проблематические случаи различения живого и неживого, но приводим аргумент, безусловно значимый в ту пору в полемике между неовиталистической и механистической школами в биологии: все в том же 1912 г. появился, между прочим, и основной логико-философский труд крупнейшего неовиталиста X. Дриша "Учение о порядке"). Определение предмета есть исключительно дело самой науки, каковая и конституируется через определение этого предмета. Поскольку же предмет в некотором роде оказывается артефактом науки, изменения в системе категорий влекут и изменения предмета. Вот почему и сейчас, как сто лет назад, социология находится в состоянии беспрестанных поисков самообоснования (с той только разницей, что теперь еще меньше осталось наук, фундамент которых казался бы незыблемым).
Итак, у самого Булгакова мы читаем, что и социология, как, например, математика, вполне может и даже должна создавать изолирующие абстракции социальной жизни, отдавая себе, однако, отчет в том, что эта "социологическая стилизация действительности" всю действительность отнюдь не исчерпывает. Что ж, кто-кто, а классики социологии вряд ли стали бы с этим спорить и, скажем, уподобление социологических феноменов как чистых форм геометрическим телам с их идеальной строгостью даже отчасти дословно совпадает у Зиммеля (в "Проблеме социологии") и у Булгакова (см. с. 201). Точно так же, несмотря на все достаточно четко артикулированные Булгаковым его разногласия с Риккертом, противопоставление социологии и истории не выходит у него в целом за пределы возможной именно в риккертовском ключе дискуссии. Булгаков занимает здесь безусловно свою, оригинальную позицию, но в общем мы не чувствуем тут, что оказались в какой-то сфере, чуждой классическим социологическим построениям. Наконец, утверждение Булгакова, что "конкретное творчество жизни" образует "непереходимую границу социологии", может быть вполне поставлено в соответствие не только с концепцией все того же Зиммеля, но и, скажем, Парсонса с его знаменитыми обоснованиями "аналитического реализма". Однако при всем том, что эти аналогии представляют несомненный интерес (а количество их может быть умножено) и свидетельствуют по меньшей мере о высоком социологическом профессионализме Булгакова, безошибочно определившем основную проблематику относительно новой науки в ту эпоху, когда мало кто мог догадываться, какие имена войдут во все учебники через полвека,- при всем том главное все-таки не это. В "Философии хозяйства" Булгаков не дает сколько-нибудь развернутой системы социологических понятий - он пишет критику нескольких расхожих понятий; Булгаков пишет "критику социологического разума", но представляет социологию в очень ограниченном объеме. Большего, вероятно, и не заслуживала социология (именно та, что была им представлена) в контексте такого всеохватывающего философского труда. Но через три четверти века ситуация видится несколько иначе, чем она виделась даже и самому автору (насколько мы вообще вправе судить о намерениях, а не только о тексте).
Выше мы уже говорили, что социологии, может быть, даже больше, чем любой другой конституирующейся частной науке, свойственно стремление максимально расширить свой предмет, тем более что у него пет каких-либо зримых, интуитивно постигаемых границ. Отсюда вытекает, в частности, социологизм в объяснении всего, что так или иначе входит в общественное устройство, в социальное взаимодействие (в своем роде это может звучать не менее убедительно - как, скажем, при классовом подходе к искусству - и столь же трудно опровергается в рамках одной только социологической "парадигмы", как сложно было бы всякому последовательному материалисту спорить с Г. Т. Боклем, выводящим общественное устройство из географии и физиологии). Конечно, методологически от социологизма можно уйти (как ушел, например, М. Вебер), но от социальной онтологии (например, в духе Дюркгейма) в этом случае приходится отказаться. Но методологизм в социологии весьма неустойчив, разумное самоограничение легче декларировать, чем реализовать.
И дело не только в редукционизме применительно к сфере идеальной. Дело еще и в том: что как бы ни были методологически корректны специальные научные изоляции предмета от всей совокупности социальных явлений, проблема самой этой совокупности как таковой и места ее в совокупности явлений иной природы остается. Недаром поэтому Теннис начинает "Сообщество и общество" с характеристик мира механического и органического. Недаром позже он вводит различение социологии общей, охватывающей все виды социального взаимодействия в человеческом и даже животном сообществах, и социологии специальной, ориентированной на изучение более узкого круга и только человеческих взаимодействий (правда, к осуществлению идеи общей социологии Теннис так и не подошел). Были в то время социологи, настроенные и более радикально. Назовем только полузабытого теперь К. Брейзига и уже совершенно забытого И. Пленге. Оба они, хотя и по-разному, именно от социологии пришли к идее (и не только идее, но и развернутым попыткам ее реализации) "общей космологии".
А вот как движется мысль Булгакова. "Все социальные науки специальны,- пишет он,- неспециальных наук вообще нет, и, в частности, не специальная, но общая социальная наука - ,,социология", есть более мечта, нежели действительность, или же в качестве нее выдаются разные полунаучные подделки и суррогаты".
Допустим, что узко специализирующегося социолога это утверждение могло бы удовлетворить в том смысле, что он может ограничиться изучением "всякого рода совокупностей", не придавая чрезмерного значения своим "научным фикциям" и не заботясь о том, как включены эти совокупности в обширную онтологическую связь. Но ни конституирующуюся общую социологию, ни философа Булгакова это удовлетворить не может.
Ведь было же им установлено, что "всякий живой организм, так тело, как организованная материя, находится в неразрывной связи со всей вселенной в качестве ее части, ибо вселенная есть система сил, взаимно связанных и взаимно проникающих одна па другую...". А отсюда логично следовало: "Предположение нескольких вселенных необходимо включало бы и их взаимодействие, т. е. только расширяло бы понятие вселенной, превращая ее в систему нескольких миров, образующих единство космоса..." и т. д. Правда, не то что отдельная специальная наука, но и никакой их синтез не может дать образ единого космоса: из особых "космосов" специальных наук нельзя воссоздать подлинной общей картины мира. С одной стороны, "объединяются между собой науки не содержанием... но формальной своей стороной, своим методизмом...". Но это только с одной стороны. А с другой - "по содержанию же истинность науки обосновывается ее софийностью, она возможна благодаря организующей силе Софии". Истинность-не сама Истина, но, как отблеск ее, она не вовсе Истине чужда. Значит, проблема социальной (как и всякой специальной) науки состоит в том, "каким образом методологизм науки, эта ее гордость и сила, не является в то же время полным и окончательным препятствием к познанию сущего?". Методологизм не может сам себя обосновать. Важно, конечно, что имеется прагматическое решение: значимость высказываний социальной науки удостоверяется действенностью социальной политики. Однако гораздо важнее, что "онтологические корни социальной науки, как и всякой науки, во всеобщей связности бытия, которая может быть нащупываема в разных точках и во всевозможных направлениях. Все находится во всем и все связано со всем, это общее онтологическое основание наук остается в силе и для социальной науки".
Итак, Булгаков предлагает методологическое, прагматическое и онтологическое решение проблемы социологии как специальной науки. Однако для нас совершенно очевидно, что с онтологией дело не может быть так просто, как это следует из только что процитированного рассуждения. Между специальной социально!"! наукой, изучающей "типичные закономерности", и общей онтологией-космологией не может не быть еще какого-то опосредующего звена. Правда, Булгаков совершенно недвусмысленно отказал в существовании общей социологии. Но разве тем самым он элиминировал ее предмет? "Философия хозяйства" позволяет убедиться в противоположном.
Обратим внимание па одну из важнейших категорий "Философии хозяйства". Прежде чем резко высказаться о множественности социальных наук, Булгаков говорит о "социальной науке" в единственном числе, связывая это с единством ее предмета. "Да, социальная паука имеет свои предмет исследования,- пишет он,- это есть социальная жизнь в ее своеобразии и самобытности". Жизнь (в том числе и жизнь социальная) должна иметь, видимо, еще какие-то определения. И при всех различиях в том, как ее понимают те или иные философы, им неизбежно приходится употреблять категорию "тело". "И излишним трудом было бы в наше время доказывать, что социальное тело существует, имеет определенное строение и ткань... Существует нечто подобное социальному организму (как ни много злоупотребляли этим сравнением, но известную справедливость имеет и оно)... социальный организм вовсе не есть какая-то умопостигаемая, метаэмпирическая, или метафизическая, связь человечества, но имеет вполне эмпирическое, научное постигаемое бытие".
Почему же это тело изучает "социальная паука во множественных разветвлениях", а общей социальной науки о его строении и жизнедеятельности нет и быть не может? Не в том ли дело, что здесь ей пришлось бы прикоснуться к сфере, для науки принципиально недоступной? Проследим еще одну линию аргументов философа.
Типические закономерности, о которых говорит социология, ее ориентация на повторяемость в функционировании социального тела означает, между прочим, что от внимания ученых ускользает индивидуальный член этой совокупности, человек, сущность сравнительно с социальным телом более первичная. Объяснения более фундаментального, чем то, на какое способна социальная наука, следует искать в человеке не только потому, что именно его творчество недоступно полному типическому обобщению, но и потому, что сама наука, само знание не столько постигают человека, сколько могут быть объяснены через отнесение к нему: "Наука есть атрибут человека... Наука насквозь антропологична... Чтобы понять пауку, надо обратиться к пониманию человека. Не наука объясняет в себе человека, но человек объясняет собой науку. Философия пауки есть отдел философской антропологии". Итак, Булгакову примерно па десяток лет [раньше, чем это было осознано на Западе в тех же терминах, удается совершенно внятно показать необходимость фундирования социологии философской антропологией. Равным образом он прилагает это требование и к политической экономии. Однако на философской антропологии Булгаков не останавливается.
В самом деле. Ведь человек - это живой организм, и нельзя обойти вопрос о его отношениях с природой. Можно поставить человека в центр мироздания - но от необходимости сопроводить философскую антропологию натурфилософией это не освобождает. Конечно же, натурфилософия тоже есть человеческое знание, и поэтому она, скорее, тоже оказывается отделом философской антропологии, чем просто ее дополнением. "Таким образом, природа с господствующим в ней слепым интеллектом или инстинктом только в человеке осознает себя, становится зрячею. Природа очеловечивается, она способна стать периферическим телом человека, подчиняясь его сознанию и в нем осознавая себя. В этом смысле человек есть центр мироздания... в нем осознает себя логос мира..." Пожалуй, не меньше половины из этих формулировок мог бы без изменений заимствовать у Булгакова знаменитый немецкий философ и социолог, основоположник философской антропологии Макс Шелер. Помимо общей логики рассуждений, их роднят и общие идейные истоки в немецкой мистике и философии Шеллинга. У Булгакова сюда добавляется, конечно, влияние В. Соловьева, ну, а сопоставления философии Шелера с философией Соловьева слишком хорошо известны.
Между тем сопоставления Шелера и Булгакова могут быть не менее обширны, в частности в том, что касается "хозяйственной природы знания". Знаменитой шелеровской триаде: знание ради господства, овладения миром - знание ради образования, культурного развития личности - знание ради спасения, высшее религиозное знание,-этой триаде могут быть найдены соответствующие параллели в "Философии хозяйства". Не забудем добавить при этом, что социология знания была выстроена Шелером на десяток лет позже.
Но ведь от Шелера мы можем шагнуть еще дальше. Составим из находимых в "Философии хозяйства" существенных идейных компонентов нечто вроде теоретической парадигмы. Включим в нее глубинное (и, может быть, даже откровенно заявленное) шеллингианство, акцентируем момент творческий, праксеологический (в связи с чем дадим и критику кантовского гносеологизма - противопоставим высшую потенцию знания бесплодности сухой специальной науки, добавим сюда и категорию свободы, и понятие человеческого рода, который, преследуя свою высшую цель, стремясь к высшему социальному идеалу единения, в нормальном устройстве общества как осуществлении любви спасает (в религиозном смысле), восстанавливает мироздание. Если ко всему этому еще добавить, что понимание хозяйства вырабатывается под сильным влиянием (как бы это ни конкретизировать) классической политэкономии и марксизма), то мы получим нечто вроде неомарксистской парадигмы Ю. Хабермаса конца 60-х годов, скажем, в его книге "Познание и интерес". (Конечно, следует поспешить с оговорками насчет отсутствия у Хабермаса собственно онтологии, насчет секуляризованности одних и сверхполитизированности других категорий. Все это очевидно. Но совсем не случайны те исследования, где припоминаются и диссертация Хабермаса о Шеллинге, и воспроизведение им Шелерова членения трех родов знания, и даже подробное сопоставление его с... Плотином).
Булгаков, таким образом, опять-таки оказывается далеко не чужд социологии, только социологии совсем иного типа. Прежде чем окончательно подвести черту, проведем для прояснения вопроса еще одну параллель.
Творчество, причинность через свободу образуют, по Булгакову, "непереходимую границу социологии" (С. 204). Речь идет о том, что наука постигает повторяющееся, но не постигает заново, из еще не-бытия творимого. "История творится так же, как творится и индивидуальная жизнь." Отсюда следует, что "понятия исторического и социологического взаимно отталкиваются и друг друга исключают. Социологическими средствами можно освещать известные стороны истории... но для постижения конкретной истории необходимо опуститься на самое дно индивидуально-исторического, неповторяемого. Отсюда мы могли бы сделать отсылку к М. Веберу, который именно в социологии пытался постигнуть разного рода исторические констелляции. Однако методологически Вебер, как известно, все-таки различал исторический и социологический идеальные типы. Поэтому, не вдаваясь в тонкости идеально-типического подхода вообще и разницу в этом смысле между историей и социологией у Вебера, мы предпочитаем обратиться к теоретику, для которого социология выступала именно как наука о действительности.
Этот теоретик - немецкий социолог X. Фрайер, разрабатывавший такое понимание своей науки в 30-е годы. Большую часть современных ему систем социологии Фрайер подвергал критике, утверждая, что они так пли иначе ориентированы на гегелевскую философию духа, на "логос" как объективные смысловые связи, как бы воплощением которых оказывается социальная реальность. Между тем социология, ориентированная на такой идеал, лишает социальную действительность характера именно действительности. Соблазнительно исследовать только формы, как это предполагает Зиммель. Но ведь плоть и кровь человека, его воля, душа и судьба неотделимы от формы. Общественные формы не абсолютны, они суть формы становящиеся, восстающие из жизни человека, как "фонтаны из текущей массы", они всегда суть формы конкретные, исторически определенные, и только индивидуальное человеческое деяние придает мыслимому содержанию характер действительности. Ко всему этому можно еще добавить, что основные составляющие той парадигмы, которую мы выше отнесли к концепции Хабермаса, можно найти и у Фрайера, разве что среди философских истоков Фихте у него играет большую роль, чем Шеллинг.
Но вот уж что может показаться совершенно неожиданным для современного читателя, так это то, что понятие о социологии как науке о действительности перенимает у Фрайера такой, казалось бы, хорошо знакомый нам теоретик, как Т. Парсонс. Обращение к Парсонсу, конечно, еще дальше увело бы нас от Булгакова, если бы не то обстоятельство, что на закате жизни, уже в конце 70-х годов, американский теоретик явственно переходит от социологии к своеобразной антропологии и даже антропокосмологии. Взглянув на известную парадигму удела человеческого в последней книге Парсонса, парадигму, в которой "система действия" (т. е. собственно антропологическая составляющая) выполняет интегративную функцию относительно систем высших ценностей и физических объектов, т. е., собственно, скрепляет собой мироздание, трудно не сопоставить это с тем, что "человек есть, с одной стороны, потенциальное все, потенциальный центр антропокосмоса, хотя и не реализованного еще, по реализуемого, а с другой - он есть продукт этого мира, этой эмпирии".
Бесспорно, все эти сопоставления могут показаться слишком уж натянутыми. Но мы и не претендуем на то, чтобы показать близкое сходство разных концепций. Речь идет о том, что Булгаков вовсе не выпадает из ряда социологических мыслителей даже там, где он борется с социологией, отказывается от ее аргументов. Ведь Булгаков критикует социологию позитивистскую и формальную. И дело не только в том, что в такой социологии нет места проблеме индивидуальной изменчивости, исторического творчества, нет места человеку из плоти и крови. Дело не только в том, что социологизм оборачивается релятивизмом применительно ко всем ценностям и идеалам. Дело еще и в том, что формальный социологизм сам себя лишает возможности стать более богатым, полным знанием. А это чревато ошибочными построениями в более узкой сфере. Если социолог видит солидарность, но не видит стоящей за ней симпатии пли любви, если он видит взаимозависимость в корыстном продуктообмене, по не видит в теплоте межличных связей каких-то высших начал (именно "любовь к дальнему" называет Булгаков "социологической") и т. п., он оказывается в положении того, кто умеет читать, но не понимает смысла прочитанного.
Именно поэтому социология то и дело стремится трансцендировать самое себя: или в направлении социализма, или в направлении светской религии человечества (Конт), или в направлении собственно религиозной социальной философии. С. Н. Булгакова в "Философия хозяйства" мы обнаруживаем именно на этом пути и потому имеем полное право причислять его труд к лучшим образцам социологического наследия.
4. "ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" С. Н. БУЛГАКОВА
Надеемся, что всем предыдущим изложением читатель достаточно подготовлен к тому, чтобы принять следующий вывод: превратившись в богослова, т. е. перестав быть философом, Булгаков тем не менее остался (п оставался до конца жизни) социологом. Если внимательно проследить его эволюцию от марксизма к идеализму п далее к религии, то легко убедиться, что в этом "превращении" нет ничего "чудесного" и даже, пожалуй, неожиданного.
Дело в том, что "проблема философии хозяйства,- пишет Булгаков,- в сущности никогда не сходила с моего духовного горизонта, поворачиваясь лишь разными сторонами". Философская эволюция С. Н. Булгакова означала постепенное сокращение собственно философской проблематики по сравнению с теологической и в конце концов решительное вытеснение, "поглощение" философии теологией. И в тот момент, когда это "поглощение" свершилось ("Икар упал", по образному выражению Булгакова), и религиозная философия Булгакова растворилась без остатка в религии, религиозная социология как раз и оказалась тем нерастворимым остатком булгаковского мировоззрения, превратившись теперь в "христианскую социологию".
Первичный замысел "христианской социологии" можно увидеть уже в том разделе "Философии хозяйства", который посвящен "Софийности хозяйства".
Некоторые исследователи философии С. Н. Булгакова склонны рассматривать его софпологпческоо учение как наименее оригинальную ее часть. Среди них - протоиерей В. В. Зеньковский, который в учении Булгакова о Софии как "четвертой ипостаси" видит результат "чрезвычайного влияния Флоренского"37, и вообще уход Булгакова в сторону софиологических размышлений объясняет целиком влиянием Флоренского38. Едва ли с этим можно согласиться без оговорок. Во всяком случае, булгаковская идея о мире, "который в своей эмпирической действительности лишь потенциально софиен, актуально же хаотичен", чрезвычайно плодотворна н необходима для его социологии, так как позволяет провести более или менее четкую границу между философией и социологией (позволяет различать онтологию и историю, если воспользоваться терминами Булгакова). "Центральной проблемой софиологии,- писал Булгаков в одной из своих поздних статей,- является вопрос об отношении Бога и мира, или - что по существу является тем же самым,- Бога и человека"39.
В творчестве Булгакова произошла своеобразная перестановка акцентов: Богово было теперь отдано Богословию, мир и человек стали достоянием "христианской социологии". Оригинальность Булгакова проявилась теперь в том, что богословие и социология в его учении настолько взаимно переплелись, что богословие стало как бы разделом социологии, как еще раньше таким разделом явилась экономика. Целью и исходным пунктом христианской социологии является человек, понимаемый как личность. "Христианское богословие призвано ... дать ответ на вопрос, пред которым в бессилии остановилась социология,-пишет Булгаков в статье "Душа социализма",- социология изнемогает от безличности, и христианская антропология должна быть применена к социологии". С. Н. Булгаков не успел (или не ставил своей целью) построить систему христианской социологии, но задачу ее построения сформулировал вполне четко. Кроме того, его учение о православии, которому он посвятил последние годы своей жизни, настолько "социологично", что один современный советский автор, опровергая как ложное "противопоставление экономической эффективности социальным и нравственным ценностям", для подкрепления своей мысли ссылается на книгу С. Н. Булгакова "Православие. Очерки учения православной мысли", в которой автор справедливо утверждает, что "в действительности, экономическая борьба является центробежной силой и может вестись лишь в обществе, тесно спаянном другими социальными механизмами"40.
5. С. Н. БУЛГАКОВ II СОВРЕМЕННОСТЬ
Читатель, который возьмет на себя труд внимательно ознакомиться с "Философией хозяйства" и предлагаемыми ему статьями Булгакова, несомненно увидит, что некоторые идеи мыслителя (и таких идей немало) настолько актуальны и настолько вписываются в картину наших сегодняшних споров, что специальный разговор о Булгакове и современности может показаться ему и излишним. И такой читатель, конечно, прав: читать Булгакова без всякой скидки на "историю", читать как нашего современника - вот единственно правильный путь постижения его мысли. Здесь хотелось бы только мысленно вернуться к тому моменту, когда полемика Булгакова с марксизмом была "механически" прервана. Мы уже отмечали, что история высылки интеллигенции в 1922 г. еще ждет своего исследователя. Но нельзя не отметить, что весьма распространенное сейчас мнение о том, что акция 1922 г. была жестом "гуманности", совершенно ложна по своей сути. Конечно, нельзя не согласиться, что для Булгакова, Бердяева, Ильина и для других сотен высланных в 1922 г. насильственная депортация была лучше, чем расстрел или лагерь на Соловках. Но ведь возможна и такая постановка вопроса: состоялся бы "большой террор", если бы лучшая часть интеллигенции не была бы заблаговременно выдворена из страны?
В свете последующих событий высылка, конечно, воспринималась как акция "анекдотического гуманизма" (вспомним хотя бы едкую насмешку А. И. Солженицына: "Объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов страны. Пусть там, на Западе, хоть подохнет!"). Какой бы ответ о причинах высылки 1922 г. нп дали будущие историки, одна из этих причин кажется нам очевидной: ни к 1917 г., ни к 1922 г. марксизм не научился вести серьезной аргументированной полемики со своими идеологическими (подчеркиваем: идеологическими, а не политическими) противниками.
В частности, не может не удивлять тот факт, что на книгу Булгакова "Философия хозяйства" из "больших" марксистов откликнулся (да и то еле-еле), кажется, один Н. И. Бухарин41.
Еще один "отзыв" принадлежит одному из персонажей романа М. Горького "Жизнь Клима Самгина": "Недавно я прочитал очень интересный труд "Философия хозяйства", это - любопытная и фантастическая попытка изложить учение Маркса теологически"42.
И вот теперь, спустя почти 80 лет после первой публикации "Философии хозяйства", книга и ее автор возвращаются на родину. Возвращаются для того, чтобы мы, наследники и современники, сумели духовно и нравственно обогатиться и с надеждой и оптимизмом взглянуть в глаза неведомому будущему. Сумеем ли? Хочется надеяться, что сумеем.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 На самом деле С. Н. Булгаков не был эмигрантом; его, по остроумному выражению М. Осоргина, "уехали" из России, т. е., попросту говоря, выслали.
2 В этом разделе в скобках указаны страницы работы С. Н, Булгакова "Автобиографические заметки" (Париж, 1946).
3 "И Булгаков стал благочестивым!" ("Виновник-" этого афоризма переводит его так: "Булгаков обыдиотел!").
4 Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 7-8.
5 Там же. С. 8. В издании книги А. Б. Гольденвейзера 1959 г. это примечание, к сожалению, опущено. Опасаясь, по-видимому, что и читатель не устоит перед "диалектикой" Льва Николаевича и откажется от марксизма, редакторы этого издания опустили следующее высказывание Толстого, характеризующее взгляды писателя как раз к моменту его "страстного спора" с Булгаковым: "Материализм - самое мистическое из всех учений: он в основу всего кладет веру в мифическую материю, все создающую, все творящую из себя. Это еще глупей Троицы!" (Там же. С. 6).
6 Вестник РСХД. 1971. N 101-102. С. 62-63.
7 Вехи. М., 1909. С. 64.
8 Там же. С. 43. Педократия - власть несовершеннолетних "инфантов".
9 Шагинян М. С. Человек и время // Новый мир. 1973. N 6. С. 130. Говоря о "группе", М. С. Шагинян имеет в виду кружок М А. Новоселова, в который помимо Булгакова входили П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, В. Кожевников и др.
10 Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973. С. 151.
11 Геллер М. "Первое предостережение"-удар хлыстом: (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) //Вестник РХД. 1978. N 127. С. 223.
12 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 66.
13 Геллер М. Указ, соч. С. 223-224.
14 Булгаков С. Н. Россия, эмиграция, православие//Вестник РХД. 1975. N 116. С. 157-158.
15 Цит. по: Театральная жизнь. 1989. N 1. С. 26.
16 Булгаков С. Н. Софиология смерти//Вестник РХД. 1978. N 127. С. 22.
17 Там же. С. 40.
18 Любимов Б. Радость совершенная//Театральная жизнь. 1989. N 1. С. 26.
19 См.: Кувакин В. А. Религиозная философия в России. М., 1980. С. 185-200. Автор, правда, выделяет четыре этапа эволюции Булгакова: ранний (1896-1900); переходный (1901-1903), а в дальнейшем-религиозно-философский (1904-начало 20-х годов). И далее-теологический. Точкой равнодействия между религиозной философией и теологией,- справедливо отмечает В. А. Кувакин,-служит книга "Свет невечерний" (1917).
20 Зенъковский В. В. История русской философии. Париж, 1948. Т. 2. С. 432.
21 Зандер Л. А. Бог и Мир: (Мировоззрение о. Сергия Булгакова). Париж, 1948. Т. 1. С. 11.
22 Период "легального" марксизма проанализирован в кн.: Кувакин В. А. Указ. соч. С. 190-191.
23 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 55. С. 76.
24 Там же. С. 160-161.
25 См.: Зандер Л. А. Бог и Мир. Т. 1. С. 11-22.
26 Булгаков С. Н. О социальном идеале // Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. 3 (68). С. 313.
27 Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903. С. 247.
28 См.: Страхов П. С. Антисоциалистическая религиозность: По поводу книги С. Н. Булгакова "Два града". Сергиев Посад. 1911. С. 16.
29 Булгаков С. Н. Два града. Т. 2. С. 116-117.
30 Отметим хотя бы в примечании, что по отношению к марксизму Булгаков никогда не занимал "воинствующей" и однозначно отрицательной позиции. Вот что писал он сам в предисловии к книге "От марксизма к идеализму": "Мое теперешнее идеалистическое мировоззрение складывалось в атмосфере социальных идей марксизма и уже поэтому оно не есть, не может быть и не должно быть сплошным его отрицанием, напротив, оно стремится к углублению и обоснованию именно того общественного идеала, который начертан на знамени марксизма и составляет его душу".
31 В России, по словам 3. А. Штейнберга, "бессменно господствует западное, а в сущности лишь западническое, чтобы не сказать еще точнее: "немеческое" представление о философии и о присущих ей формах творческого проявления" (Штейнберг 3. А. Система свободы Ф. М. Достоевского. Берлин, 1923. С. 11).
32 Вестник РСХД. 1971. N 101-102. С. 90.